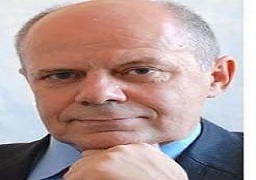Почему люди рискуют жизнью
Почему люди рискуют жизнью: нейробиология и психология экстремалов
Только в августе 2025 года в горах Памира и Тянь-Шаня погибли пять человек: двое из России и трое иностранцы.
«Умный в гору не пойдет»? Но что, если эта «гора» — не просто препятствие, а глубокий эволюционный механизм, встроенный в наш мозг?
Как и все мальчишки нашего двора я обожал зимой прыгать со второго этажа в сугроб, лазать на высокие деревья в нашем дворе, а потом, уже в юности, пропадать в пещерах, занимаясь спелеологией или потеть в спортивном зале проводя спаринги, занимаясь борьбей боксом, карате. Позже в мою жизнь пришли дайвинг, фридайвинг и небо на дельталете.
Почему я этим занимался? Не из-за особой храбрости или отсутствия страха. А просто: было любопытно, интересно, смогу — не смогу? Компания друзей, не быть трусом, азарт и драйв, ну и, конечно, желание быть героем в глазах других, и особенно девушек — куда уж без этого.
Уже позже, занимаясь дайвингом, фридайвингом, я ощущал всю полноту жизни после погружений. Мир становился обьемней, краски ярче и мощное чувство удовлетворения волнами наполняло тебя, а еще гармония в душе.
Но с детства я помню это чувство — лёгкую, щемящую зависть к тем, кто был храбрее меня. Они прыгали первыми с обледеневшей крыши гаража в неведомую белизну сугроба. Они срывались в драку, не считая синяков, разбитых носов и карабкались на самое высокое дерево во дворе, будто земля под ногами была для них слишком скучной. Они первые делали сальто без страховки в зале, где мы занимались борьбой.
Казалось бы, обычная история взросления. Но почему тогда у одних это проходит с годами, а у других превращается в образ жизни, заставляя лезть на Эверест, прыгать с парашютом или нырять на стометровую глубину на одном вдохе?
И я начал спрашиватьь тех, кто добровольно ставит себя на грань: скалолазов с руками, исцарапанными до крови камнем, бейсджамперов, пахнущих ветром и свободой, мотоциклистов, чьи машины рычат яростью на виражах, фридайверов, продающих душу за лишнюю минуту в объятиях океана.
«Вы не боитесь?» — задавал я наивный, детский вопрос, ожидая услышать истории о бесстрашии.
Ответы были разными, но сводились к одному. Они не пели гимны бесстрашию. Они говорили о тихом, личном диалоге со страхом.
«Бояться? Ещё как. Тот, кто не боится — либо психиатром невиданный феномен, либо дурак, не понимающий, где он оказался. Страх — это мой спутник. Он сидит тут, на плече, и шепчет: „Смотри, опасность. Остановись“. А я слушаю. Я не игнорирую его. Я договариваюсь с ним».
Они говорили, что страх для них — не стена, а инструмент. Лакмусовая бумажка реальности. Он не парализует, а, наоборот, обостряет все чувства до предела. Зрение становится кристальным, слух улавливает малейший шорох ветра, а тело превращается в сгусток готовности.
«Что это тебе дает?» — не унимался я.
И тогда их глаза загорались особым светом. Они говорили не о адреналине, а о жизни. О той, что по-настоящему живым, настоящим чувствуется только на риске.
«Это даёт мне чувство, что я жив. Не существую, а именно — жив. Каждый нерв, каждая клетка кричит об этом. После этого обычная жизнь — дорога, работа, дом — кажется такой яркой, вкусной, детальной. А без этого… Без этого — застой. Рутина. Серая тоска, как в аквариуме без воды».
Люди далекие от экстремальных видов спорта обычно говорят: "я человек приземленный, люблю размеренную жизнь". "Вы - экстремалы горам не нужны, зачем вы туда протесь?" "Что амбиции, тщеславие замучали?" "Горы решили покорить?" "Горы стоят миллионы лет, вы им не интересны с вашии гонором".
И самый главный парадокс, который я узнал: самые смелые — не те, кто не ведает страха. Самые смелые — те, кто научился его слушать, принимать и отпускать, как опытного, но надоедливого советчика. Кто знает, когда нужно сделать шаг вперед, а когда — мудро отступить, почувствовав, что сегодня риск зашкаливает.
Их храбрость — не в отсутствии страха, а в умении танцевать с ним на краю пропасти, зная каждое его движение. Да, стихии: горы, вода не знают милосердия и часто людей назад не отдают. Сколько людей лежит на Эвересте и других горах? Сколько дайверов и фридайверов навсегда остались в море? Люди платят жизнями за экстрим, но природу не победишь.
Но, оказывается, это не просто баловство. За нашей тягой к риску кроется сложная и fascinating игра гормонов, нейронов и древних инстинктов. Это вшито в нашу ДНК. Суть, как выяснилось, лежит не в области морали или философии, а в нашей нейробиологии. Наш мозг буквально запрограммирован на то, чтобы искать вызовы. Просто у некоторых эта программа запускается на полную мощность.
Влечение к краю: больше, чем просто адреналин
Люди, добровольно бросающие вызов смерти — альпинисты, парашютисты, фридайверы, мотоциклисты — часто вызывают смесь восхищения и непонимания. Со стороны кажется, что ими движет лишь жажда адреналина. Но наука раскрывает куда более сложную картину.
Экстремалы — не просто «адреналиновые наркоманы». Их тяга к риску — это сложный нейробиологический и психологический феномен, корни которого уходят в глубокие механизмы эволюции, работы мозга и даже социальной динамики.
Нейробиология риска: что происходит в мозге экстремала?
Только в августе 2025 года в горах Памира и Тянь-Шаня погибли пять человек: двое из России и трое иностранцы.
«Умный в гору не пойдет»? Но что, если эта «гора» — не просто препятствие, а глубокий эволюционный механизм, встроенный в наш мозг?
Как и все мальчишки нашего двора я обожал зимой прыгать со второго этажа в сугроб, лазать на высокие деревья в нашем дворе, а потом, уже в юности, пропадать в пещерах, занимаясь спелеологией или потеть в спортивном зале проводя спаринги, занимаясь борьбей боксом, карате. Позже в мою жизнь пришли дайвинг, фридайвинг и небо на дельталете.
Почему я этим занимался? Не из-за особой храбрости или отсутствия страха. А просто: было любопытно, интересно, смогу — не смогу? Компания друзей, не быть трусом, азарт и драйв, ну и, конечно, желание быть героем в глазах других, и особенно девушек — куда уж без этого.
Уже позже, занимаясь дайвингом, фридайвингом, я ощущал всю полноту жизни после погружений. Мир становился обьемней, краски ярче и мощное чувство удовлетворения волнами наполняло тебя, а еще гармония в душе.
Но с детства я помню это чувство — лёгкую, щемящую зависть к тем, кто был храбрее меня. Они прыгали первыми с обледеневшей крыши гаража в неведомую белизну сугроба. Они срывались в драку, не считая синяков, разбитых носов и карабкались на самое высокое дерево во дворе, будто земля под ногами была для них слишком скучной. Они первые делали сальто без страховки в зале, где мы занимались борьбой.
Казалось бы, обычная история взросления. Но почему тогда у одних это проходит с годами, а у других превращается в образ жизни, заставляя лезть на Эверест, прыгать с парашютом или нырять на стометровую глубину на одном вдохе?
И я начал спрашиватьь тех, кто добровольно ставит себя на грань: скалолазов с руками, исцарапанными до крови камнем, бейсджамперов, пахнущих ветром и свободой, мотоциклистов, чьи машины рычат яростью на виражах, фридайверов, продающих душу за лишнюю минуту в объятиях океана.
«Вы не боитесь?» — задавал я наивный, детский вопрос, ожидая услышать истории о бесстрашии.
Ответы были разными, но сводились к одному. Они не пели гимны бесстрашию. Они говорили о тихом, личном диалоге со страхом.
«Бояться? Ещё как. Тот, кто не боится — либо психиатром невиданный феномен, либо дурак, не понимающий, где он оказался. Страх — это мой спутник. Он сидит тут, на плече, и шепчет: „Смотри, опасность. Остановись“. А я слушаю. Я не игнорирую его. Я договариваюсь с ним».
Они говорили, что страх для них — не стена, а инструмент. Лакмусовая бумажка реальности. Он не парализует, а, наоборот, обостряет все чувства до предела. Зрение становится кристальным, слух улавливает малейший шорох ветра, а тело превращается в сгусток готовности.
«Что это тебе дает?» — не унимался я.
И тогда их глаза загорались особым светом. Они говорили не о адреналине, а о жизни. О той, что по-настоящему живым, настоящим чувствуется только на риске.
«Это даёт мне чувство, что я жив. Не существую, а именно — жив. Каждый нерв, каждая клетка кричит об этом. После этого обычная жизнь — дорога, работа, дом — кажется такой яркой, вкусной, детальной. А без этого… Без этого — застой. Рутина. Серая тоска, как в аквариуме без воды».
Люди далекие от экстремальных видов спорта обычно говорят: "я человек приземленный, люблю размеренную жизнь". "Вы - экстремалы горам не нужны, зачем вы туда протесь?" "Что амбиции, тщеславие замучали?" "Горы решили покорить?" "Горы стоят миллионы лет, вы им не интересны с вашии гонором".
И самый главный парадокс, который я узнал: самые смелые — не те, кто не ведает страха. Самые смелые — те, кто научился его слушать, принимать и отпускать, как опытного, но надоедливого советчика. Кто знает, когда нужно сделать шаг вперед, а когда — мудро отступить, почувствовав, что сегодня риск зашкаливает.
Их храбрость — не в отсутствии страха, а в умении танцевать с ним на краю пропасти, зная каждое его движение. Да, стихии: горы, вода не знают милосердия и часто людей назад не отдают. Сколько людей лежит на Эвересте и других горах? Сколько дайверов и фридайверов навсегда остались в море? Люди платят жизнями за экстрим, но природу не победишь.
Но, оказывается, это не просто баловство. За нашей тягой к риску кроется сложная и fascinating игра гормонов, нейронов и древних инстинктов. Это вшито в нашу ДНК. Суть, как выяснилось, лежит не в области морали или философии, а в нашей нейробиологии. Наш мозг буквально запрограммирован на то, чтобы искать вызовы. Просто у некоторых эта программа запускается на полную мощность.
Влечение к краю: больше, чем просто адреналин
Люди, добровольно бросающие вызов смерти — альпинисты, парашютисты, фридайверы, мотоциклисты — часто вызывают смесь восхищения и непонимания. Со стороны кажется, что ими движет лишь жажда адреналина. Но наука раскрывает куда более сложную картину.
Экстремалы — не просто «адреналиновые наркоманы». Их тяга к риску — это сложный нейробиологический и психологический феномен, корни которого уходят в глубокие механизмы эволюции, работы мозга и даже социальной динамики.
Нейробиология риска: что происходит в мозге экстремала?